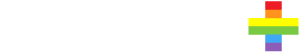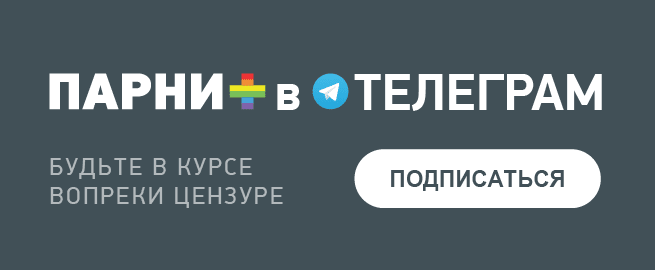События последних лет показали, что несмотря на всё возрастающую толерантность общества в отношении ЛГБТ-людей, гомофобные настроения по-прежнему сильны, а преступления ненависти против ЛГБТ-сообщества не прекращаются. Мы публикуем интервью, в котором историк Флоранс Тамань, доцент Университета г. Лилль (Франция) рассуждает о гомофобии и репрезентации гомосексуалов в культуре.
1) Образ гомосексуала претерпел значительные изменения: если раньше гомосексуальность ассоциировалась с болезнью и общественной угрозой, то в последнее время она становится символом гедонизма и художественной чувствительности. Каковы причины таких изменений в восприятии общества?
Я не уверена, что можно говорить о каком-то изменении или эволюции. Даже если ограничиться XX-м веком, то мы увидим, что репрезентации гомосексуальности всегда колебались между этими двумя крайностями. Приведу лишь один пример: в 1920-е гг. гомосексуальность ассоциировалась с «эпохой джаза» («années folles»). В так называемых «модернистских» романах мы неизбежно обнаруживаем гомосексуального персонажа, в одном ряду с образами флэппер (эмансипированная молодая девушка), джазовых певцов, кокаиноманов.
Конечно, в столицах и вообще в больших городах гомосексуалы становятся более видимыми, особенно в артистической и богемной среде. Если говорить о Париже, можно вспомнить А. Жида, опубликовавшего своего «Коридона» в 1924 г., круг Жана Кокто, Колетт и амазонок с левого берега Сены. Представители среднего класса, желавшие окунуться в маргинальную жизнь, посещали травести-балы в Magic-City. В Берлине же Кристофер Ишервуд открывает свободу нравов, которую опишет позднее в романе «Прощай, Берлин», послужившем основой для фильма «Кабаре». Но даже если у нас и создалось впечатление высокого уровня толерантности (а ведь после Второй мировой войны эпоха 1920-х гг. осталась в гомосексуальном воображении как некий «золотой век»), тем не менее, толерантность эта была очень относительна.
В эти годы огромному большинству геев и лесбиянок необходимо было скрывать свою сексуальную ориентацию от соседей, коллег, зачастую от семьи и от друзей. Несмотря на усилия первых гей-освободительных движений, таких как WhK («Научно-гуманитарный комитет») Магнуса Хиршфельда в Германии, гомосексуальность по-прежнему воспринималась в лучшем случае как болезнь, в худшем же – как преступление. Гомосексуальные связи между мужчинами (реже – между женщинами) по-прежнему оставались наказуемыми в большинстве европейских стран. Даже во Франции, в которой гомосексуальность была исключена из Уголовного кодекса еще в 1791 г., места встречи гомосексуалов находились под надзором полиции. В 1930-е же годы, отмеченные рядом политических, экономических и социальных кризисов, мы наблюдаем возвращение агрессивных гомофобных дискурсов, которые продолжают, кстати, проявляться и сегодня. В этих дискурсах гомосексуальность систематически представляется как один из симптомов упадка, в который впала современная Европа: во Франции, например, геев и лесбиянок обвиняют в снижении рождаемости.
2) Что можно сказать о характере повторяющейся в гомофобных дискурсах связи между гомосексуальностью и различными социальными проблемами (отсутствие патриотизма, негативное воздействие на экономику, болезни, как, например, СПИД)?
Гомосексуал по-прежнему остается «другим». С точки зрения массового сознания, гомосексуал сознательно занимает маргинальную позицию в сообществе, будь то семья или нация. Таким образом, выходит, что он/она — потенциальный предатель родины. Кроме того, нередко считается, что гомосексуалы «засылаются» врагом. Так, во Франции первой половины ХХ века гомосексуальность называли «немецким пороком». Нацисты полагали, что гомосексуальность была занесена к ним евреями. Коммунисты, начиная с 1934 г., описывают гомосексуальность как «фашистскую перверсию». Гомосексуал представляет собой также некоторую угрозу социальному порядку: он размывает гендерные различия, переступает через барьеры, разделяющие различные классы, угрожает общепризнанным иерархиям.
Даже если эти стереотипы и потеряли свою силу, они по-прежнему остаются прочно засевшими в наших головах и регулярно вновь всплывают на поверхность. Эпидемия СПИДа реактивизировала страхи, связанные с сексуальностью, а также проявила неоднозначность связи между гомосексуальностью и гедонизмом, которую мы можем наблюдать на протяжении 1970х гг., когда образ гомосексуальности в прессе связывался не только с освободительным движением геев и лесбиянок, но еще и с Le Palace (парижский клуб, популярный в андеграундной среде), волной диско, саунами… Неудивительно поэтому, что СПИД, едва появившись, предстал в гомофобном дискурсе чем-то вроде божественной кары, которая пришла положить конец годам разнузданных удовольствий…
3) Борьба против стереотипов представляет собой главную заботу многих правозащитных ЛГБТ-объединений. В то же время существует некоторое противоречие между теми, кто полагает, что геи и лесбиянки сами поставляют «дурные образы» обществу, и теми, кто, напротив, говорит о том, что само общество несет ответственность за производимые им стереотипы. Можно ли сказать, что гомосексуалы сами являются поставщиками социальных клише, или они являются лишь предметом отображения? Как изменилось отношение СМИ в плане репрезентации образа гомосексуала?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если взять образ женственного гея, который и по сей день остается чрезвычайно живучим, то он возникает из ряда стереотипных дискурсов, но он свидетельствует также и о некоторой социальной реальности. Так, психиатры в конце XIX века зачастую определяли гомосексуала в терминах гендерной инверсии (гомосексуал женственен, лесбиянка мужеподобна), а не в терминах сексуальной ориентации, и их дискурсы имели огромное влияние. Многие мужчины, имевшие сексуальные связи с мужчинами, не определяли себя, впрочем, как гомосексуалов, особенно в том случае, если они выступали в активной роли и тем самым оставались в рамках образа традиционной мужественности, и, возможно, таково положение дел и в наши дни. В то же время, в начале ХХ века, некоторые медики и активисты-гомосексуалы, такие как Ульрих или Магнус Хиршфельд, определяли гомосексуальность как «женскую душу, заключенную в мужское тело». Тогда, как и сегодня, были мужчины, которые называли себя «хабалками» (folles), при этом хабальство (follitude) могло принимать различные формы: ведь можно быть хабалкой в частной жизни и «обычным» мужчиной – в профессиональной, и т.д.
Представление о том, что некоторые поведенческие черты (женственность или множество беспорядочных половых связей, например) могли создать «дурной образ» гомосексуальности, отнюдь не ново: в 20-ые гг. Квентин Крисп, который был убежденной хабалкой, сетует на то, что во многих гей барах его не пускают, поскольку он слишком привлекает внимание. В 50-60-ые гг. во Франции Андре Бодри, основатель журнала «Аркадия», высказывает беспокойство о том, что хабалки Сен-Жермен-де-Пре могут способствовать усилению предрассудков, царящих в общественном мнении. В 70-ые гг. мишенью обвинений становятся кожаные куртки в стиле садо-мазо, ибо они поддерживают связь между гомосексуальностью, насилием и даже фашизмом (вспомним фильм «Разыскивающий» (Cruising) который вышел в 1980 г., о гее –серийном убийце). Опасность мышления в терминах «хороший» или «плохой» образ заключается в том, что мы способствуем тем самым еще большей нормализации этих репрезентаций. Возникновение понятия квир в США в 90-ые гг может быть рассмотрено, помимо прочего, как реакция на гей-движение, которое воспринималось как ограниченное, ибо исключало лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, а также расовые меньшинства, не говоря уж об остальных.
Точно так же нельзя говорить о СМИ вообще. Появление новых средств телекоммунникации повлекло за собой и увеличение числа самых разнообразных репрезентаций, и именно в этом, без сомнения, заключается главное отличие нашей эпохи от, скажем, эпохи 60-х гг., когда публика имела доступ к достаточно ограниченному числу телеканалов, когда в кинематографе можно было обнаружить лишь беглые аллюзии на гомосексуальность и когда пресса замалчивала гомосексуальность, вспоминая о ней разве что в рубрике «Происшествия». Сегодня гомосексуальность стала гораздо более видимой, но это вовсе не означает, что старые стереотипы исчезли. По крайне мере, сегодняшний молодой гей или лесбиянка видит героев-гомосексуалов в кино и в сериалах. Такие темы. как гей—брак или усыновление детей однополыми семьями регулярно обсуждаются, однако это не мешает гомофобным стереотипам возникать вновь и вновь (например, стереотип о том, что гомосексуальности сопутствует педофилия)… Даже Интернет, который может показаться мощным инструментом освобождения, способствует, однако, и распространению гомофобных высказываний – с чем мы и встречаемся на самых разных форумах…
4) В 2010 году антигомофобные кампании сосредоточились на проблеме употребления таких слов, как «педик», «лесбуха», «пидовка» («pédé », « gouine », « tapette »). Между тем некоторые активисты не без основания полагают, что эти слова выхолощены, лишены своего специально гомофобного смысла, и поэтому борьба с ними не имеет смысла. Более того, те геи, которые сами часто называют себя «педиками», не обнаруживают гомофобного поведения. Что думаете вы, как историк, какова значимость этих слов-ярлыков, какова их социальная роль? Можно ли говорить о гомофобии среди самих геев?
Здесь я бы хотела сослаться на книгу Дидье Эрибона «Размышления над гей-вопросом» («Réflexions sur la question gay»). В этой работе он хорошо показал, что оскорбления такого типа функционируют как «перформативные высказывания»: они заставляют человека осознавать самого себя как «другого». Поэтому каждый сталкивается с выбором, что делать с тем образом, который создает общество: можно его принять (интериоризировать), а можно оспорить или разрушить. Конечно, существует интериоризированная гомофобия, и можно привести такие крайние случаи, как случай Роя Кона, который, будучи гомосексуалом, был в то же время и одним из главных деятелей гомофобной кампании МакКарти в Америке 50-х гг. Но использование терминов «педик», «лесбуха», «квир» (« pédé », « gouine », « queer ») геями и лесбиянками может иметь несколько различных смыслов. Мы никогда не выражаем свои мысли одними и теми же словами, все зависит от собеседника. Например, геи часто называют себя «педиками», и в гей-среде к этому это будет воспринято нормально. Но если вы назовете себя таким словом в гетеросексуальной среде, то это может быть воспринято как провокация, цель которой — вызвать реакцию собеседника. И в этом нет какой-то лесбигеевской специфики: достаточно вспомнить об употреблении слова «нигер» (негр) в среде афроамериканцев. Поэтому использование оскорбительных ярлыков может стать способом вывернуть стереотип наизнанку, создать своей идентичности более позитивный образ.
Это вовсе не означает, что можно свободно употреблять эти слова вне сообщества геев и лесбиянок. Однако на улицах, в машинах, на трибунах футбольных матчей мы регулярно слышим такие слова, как «педик», «пидор», «пидовка», «лесбуха» (« pédé », « enculé », « tapette », « sale gouine ») и т.д. Они сохраняют свой оскорбительный заряд, даже став, на первый взгляд, обычными, общеупотребительными, «стертыми» выражениями. И не так важно, по сути дела, действительно ли адресат мыслится как гомосексуал или лесбиянка. Эти слова употребляются лишь потому, что они отсылают к целому набору негативных репрезентаций и стигматизирующих стереотипов.
5) В наше время появляется все больше и больше фильмов и сериалов, в которых представлены гомосексуальные персонажи и гомосексуальный опыт. Эти репрезентации имеют обширную географию: от Запада до Востока, от Франции до Израиля и арабских стран. Большинство активистов положительно оценивают их количественный рост, но что можно сказать о качестве репрезентаций в этих фильмах?
Здесь тоже нельзя делать обобщения. Как я уже говорила, главное изменение заключается в максимальной видимости гомосексуалов. Ведь когда читаешь свидетельства начала ХХ века, или даже 1950-х гг., более всего поражают степень изоляции, необходимость скрывать себя и то чувство непохожести на других, которое рождается у человека, который не может соотнести себя с кем-то таким же, как он. Который не способен дать имя тому, что он есть.
Начиная с 1970-х гг. мы наблюдаем растущее многообразие репрезентаций гомосексуальности, что совпадает с исчезновением цензуры, особенно в США. Наряду с некоммерческим кино, в том числе с андеграундом (например, фильмы Дерека Джармена), появляются фильмы, предназначенные для более широкой публики, но тем не менее получившие одобрение критики. Я говорю о таких фильмах, как «Моя прекрасная прачечная» (My Beautiful Laundrette, 1985) Стивена Фрирза, «Мой личный штат Айдахо» (My Own Private Idaho, 1991) Гаса ван Сента, «Филадельфия» (Philadelphia, 1993) Джонатана Демми или «Горбатая гора» (Brokeback Mountain, 2005) Энга Ли. Изменяются и сами репрезентации: гомосексуал далеко не всегда умирает в конце фильма, случается, что ему удается найти выход из драмы. Кроме того, увеличилось число трансгендерных персонажей. Здесь можно вспомнить фильмы Альмодовара или ленту Кимберли Пирса «Парни не плачут» (Boys Don’t Cry, 1999). С другой стороны, мы находим там образ «гея-подружки». Это персонаж, зачастую десексуализированный и превращенный в лучшего друга и наперсника героини-гетеросексуалки. Таков, например, дуэт Руперта Эверетта и Джулии Робертс в фильме Пола Хогана «Свадьба лучшего друга» (My Best Friend’s Wedding, 1997).
Тема любовных отношений между женщинами до сих пор остается наименее освещенной на широком экране, и стереотипы здесь особенно живучи. Лесбиянки-убийцы, вампиры или психопатки по-прежнему пользуются большой популярностью. Этого, однако, гораздо меньше на телевидении, в телесериалах, которые стремятся показать жизнь геев и лесбиянок менее стереотипно, как, например, «Секс в другом городе» (The L Word) или «Близкие друзья» («Queer as Folk»). Становится все больше и больше персонажей–геев и лесбиянок, которые показаны не сквозь призму стереотипов, а как обычные люди в таких популярных сериалах, как «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives), например. Не стоит забывать также и о влиянии молодежного сериала «Баффи — истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer). В 4 сезоне Уиллоу делает лесбийский каминг-аут, и этот эпизод получил необычайно широкий зрительский отклик: авторы фильма получили тысячи писем с просьбами не оставлять эту любовную линию в качестве обычной интрижки, мимолётного увлечения.
Тем не менее, необходимо учитывать некоторые явления, связанные с оппортунизмом: стремление бизнеса привлечь сообщество с высокой покупательной способностью при помощи «розового маркетинга» (pink marketing), интерес рекламщиков к субкультуре геев и лесбиянок (зачастую предписывающей стили поведения), что является плодом давней традиции использования гомосексуальности в эротико-коммерческих целях («лесбийская» интерлюдия в гетеросексуальном порно), хлопоты о том, чтобы создать политкорректный, но при этом чисто символический, существующий «для видимости» образ гея или лесбиянки в передаче или в фильме. Я уже не говорю о фильмах, которые довольствуются воспроизведением старых клише, вроде «Вечернего прикида» (Pédale douce, 1996) или «Хамелеона» (Le placard, 2001).
6) Можно ли связать все более растущее признание гомосексуалов на государственном уровне с тем фактом, что они, как правило, не имея семьи и детей, могут тратить значительную долю своего бюджета на блага иного порядка (культура, путешествия, развлечения)? Нужно ли это учитывать, если мы стремимся понять восприятие социальной роли ЛГБТ-сообщества государством?
Вполне возможно, хотя это и не единственный фактор. Вместе с тем и здесь мы имеем эффект лупы, и потому это представление очень ограниченно. Отсюда недалеко и до стереотипов о «гей-лобби». Если некоторая часть геев, хорошо «раскрученная» в СМИ, может претендовать на уровень жизни, несколько превышающий средний, это вовсе не означает, что так живут все геи. Я не говорю уже о лесбиянках, которые, как и все женщины, не имеют ни той же заработной платы, ни тех же карьерных перспектив, какие имеются у мужчин.
7) Может ли сильный коммунитаризм сыграть против гомосексуалов в тех обществах, где геи уже добились необходимых прав, как во Франции, например (в то время как в более консервативных обществах объединение в группы по идентичности являются скорее необходимым условием выживания и видимости меньшинств)? Предполагает ли социальная интеграция ассимиляцию, растворение в обществе, потерю своеобразия? Можн о ли как-то совместить процесс интеграции и значимость различия?
Я не чувствую себя достаточно компетентной, чтобы ответить на такой вопрос. Поэтому я ограничусь тремя замечаниями.
Прежде всего, следует осторожнее относиться к употреблению таких слов, как «коммунитаризм» или «ассимиляция», ибо они систематически используются в политических целях во время разного рода дебатов. Кроме того, эти термины ассоциируются с проблематичным понятием «национальной идентичности», поскольку они создают видимость, будто представители ЛГБТ находятся вне национального сообщества. С другой стороны, сами понятия «гей-сообщество», или «сообщество геев и лесбиянок», или «ЛГБТ-сообщество» представляются проблематичными, ибо, по-видимому, предполагают некую единую точку зрения, единые интересы и даже общность судьбы.
Далее, я бы хотела подчеркнуть, что спор этот далеко не нов. Уже в 1920-х гг. немецкие гей-движения отвергали стратегию ассимиляции, которой нужно было следовать, чтобы добиться декриминализации гомосексуальности. Одни считали необходимой социальную интеграцию, другие же утверждали, что их непохожесть на других представляет собой форму исключительности. В 70-ее гг. движение геев и лесбиянок, выступавшее за право быть другим и утверждавшее гордость быть геем, объявило контрпродуктивной стратегию ассимиляции (которой следовала с 1950-х гг. группа «Аркадия» — первое в истории Франции гей-объединение, основано в 1954 г. Андре Бодри.). Нужно учесть также романтическую тягу к маргинальности, к «тёмной гомосексуальности», на которой настаивали Пьер Паоло Пазолини или Жан Жене. В целом, мне кажется, что обе стратегии шли всегда рука об руку и что стремление объединяться для защиты своих прав, желание быть признанным таким, каков ты есть, нисколько не мешает объединению с обществом. Ведь мы не сводимся к нашей сексуальности.
И наконец, я скептически отношусь к тому мнению, что борьба будто бы уже окончательно выиграна. В 1920-е гг. Магнус Хиршфельд был убежден, что Германия встала на путь прогресса и что декриминализация гомосексуальности отныне не более чем вопрос времени. Однако приход к власти Гитлера показал, что эти надежды были преждевременными. Общественные настроения меняются, это бесспорно. Но гомофобия, лесбофобия, трансфобия остаются. И гетеросексизм окружает нас повсюду. И речь вовсе не идет о том, чтобы геи и лесбиянки получили какие-то «особые права». Всё, что нам требуется, это просто равные права.
Флоранс Тамань (Florence Tamagne) – специалист в области истории гендера и его репрезентаций, доцент Университета в Лилле. Автор исследований «История гомосексуальности в Европе (Берлин, Лондон, Париж эпохи между двух войн) (2000), «Дурной жанр? История репрезентаций гомосексуальности» (2001). Принимала участие в составлении «Словаря гомофобии» (2003) и «Словаря гей- и лесбийской культуры» (2003)
Перевод Саши Мельникова.