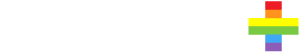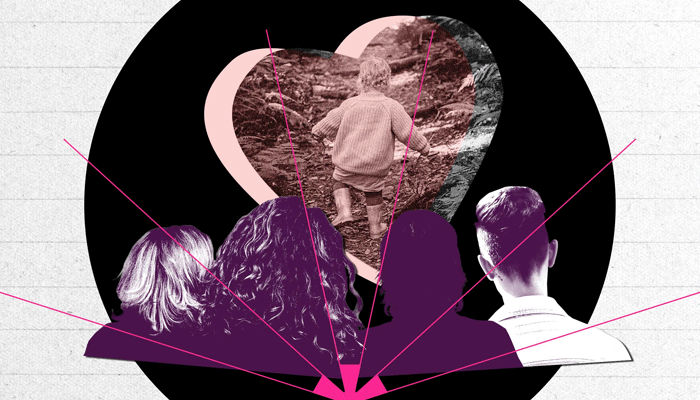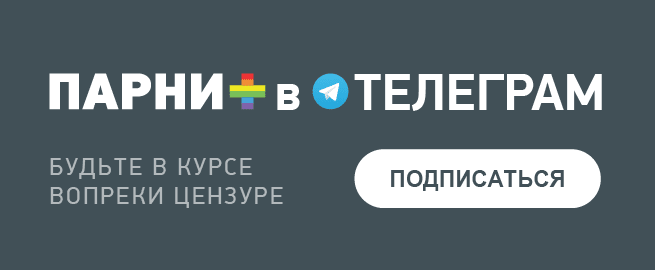Вторая часть о практике сородительства
В первой статье мы уже говорили о том, что такое сородительство, почему оно становится особенно актуальным для ЛГБТ-людей, и как взрослые могут договариваться между собой. Также мы обсудили возможные плюсы и ограничения этой модели.
Семья по любви и договорённости: как квир-люди создают родительство заново
Сегодня продолжим разговор — теперь о том, что получает ребёнок в такой семье, как реагируют окружающие и почему, несмотря на трудности, эта идея может стать частью будущего.
Обзор основных пунктов того, что получает ребенок в такой семье, мы уже проводили. Поэтому сейчас я предлагаю погрузиться в самую сердцевину сородительства — детский опыт. Будем разбирать, как ребёнок на самом деле воспринимает семью, где заботу и внимание делят между собой несколько взрослых, и почему для него главное не форма семьи, а стабильность, ясность и любовь.
Через простые, но точные наблюдения мы рассмотрим, как формируется чувство безопасности, что помогает ребёнку уверенно отвечать на вопросы сверстников и как ритуалы и «карта семьи» превращают нестандартную модель в понятный и надёжный мир.
Детский опыт — что действительно чувствует и как живёт ребёнок в сородительской семье
Если говорить прямо: ребёнок не ходит на марши, не читает законы и не думает о юридических формальностях. Он/она/они живут здесь и сейчас — и это «здесь и сейчас» определяет всё.
Поэтому смысл сородительства стоит измерять не абстрактными правами, а тем, что ребёнок ощущает каждый день: безопасность, порядок, любовь и понятный рассказ о том, откуда он/она/они родом.
Ниже — глубоко и просто о том, что происходит с ребёнком в семье «на нескольких взрослых», какие преимущества это даёт и какие сложности могут подкрасться — с реальными предложениями, как строить всё так, чтобы ребёнок вырос уверенным и счастливым.
Как ребёнок видит свою семью
Дети — прирождённые социологи. Они считывают рутину, интонации, карты внимания. Для малыша «семья» — это те лица, к которым он бежит с плачем или радостью, кто готов утешать разбитую коленку и кто читает сказку на ночь. Если в доме четыре таких лица, ребёнок просто добавляет их в свой список «мои взрослые». Ничего мистического здесь нет.
Важно: ребёнок запоминает не слово «мама» или «папа», а действие. Кто делает утренний бутерброд, кто гладит волосы, кто помогает с уроками — это и есть для ребёнка родитель. Чем последовательнее и понятнее взрослые — тем быстрее ребёнок принимает модель как норму.
Стабильность через ритуалы и карты семьи
Двойка-тройка-четверка взрослых — значит, риск путаницы выше. Решение простое и действенное: стабильные ритуалы и визуальные «карты семьи».
Примеры:
- «Карта забот»: наглядный плакат на холодильнике — кто отвечает за ужин, кто за врачей, кто за кружки.
- «Утренняя цепочка»: всегда один и тот же взрослый провожает в сад/школу по понедельникам и средам; ребёнку легче ориентироваться.
- «Фотоальбом семьи»: маленькая книга с подписями «Мама Лена — готовит блины», «Дядя Олег — читает стихи». На вопросы сверстников ребёнок открывает альбом и показывает повседневную жизнь с ее повседневным течением.
Такие простые вещи даёт ребёнку ощущение, что всё под контролем. Режим и предсказуемость — мощнейший ресурс безопасности.
Язык семьи: как объяснять и когда начинать
Честность в словах — ключ. Но «честность» не значит «всё и сразу». Есть возрастные подходы.
Короткие сценарии для разговоров (примерно):
- 3–6 лет: «Наша семья — это люди, которые тебя любят. У нас есть несколько взрослых, и все они заботятся о тебе.»
- 7–11 лет: «У нас семья по договорённости: мы вместе решили растить тебя. У каждого из нас есть своя роль, и это нормально.»
- 12+ лет: открытый разговор о том, какие у кого права, кто подписан в документах, и почему мы так сделали.
Практика: проговорите «семейную историю» вместе несколько раз, чтобы у всех была одна и та же версия. Это не для внешнего мира — это для того, чтобы ребёнок сам мог уверенно рассказывать.
Школа, вопросы сверстников, буллинг — что реально происходит и как подготовить ребёнка
Школа — место, где модель «четырёх взрослых» чаще всего встречает непонимание. Вопросы, шутки и редкие грубости — могут быть реальностью. Но детям легче, если у них есть сценарий.
Что можно сделать:
- Придумайте простую фразу для ребёнка: «У меня несколько взрослых, которые меня любят» — и потренируйте её разыграть в формате репетиции диалога.
- Найдите в школе «союзника»: воспитатель, учитель или школьный психолог, кого можно заранее предупредить.
- Если появляется насмешка, учите ответам без нервов и стеснения: «Это моя семья. А у тебя что?». Часто ровно и спокойно сказанное «это нормально» гасит интерес задиры, который часто преследует одну цель — заставить смущаться и вызвать на эмоции.
Важно: дети редко травмируются от любопытства. Травмирует игнорирование взрослыми чувства ребёнка и лишняя скрытность вокруг и внутри семьи. Открытость и спокойствие в доме — лучшая защита.
Как формируется привязанность и чувство «кто я»
Много взрослых вокруг означает: у ребёнка сразу несколько привязанных фигур. Это может снизить зависимость от одного человека и повысить устойчивость к внешнему миру в будущем. Если один взрослый уходит по работе — никто не исчезает полностью. Нет чувства покинутости. Это улучшает навыки самостоятельности и уверенности, и даёт больше моделей эмоциональной регуляции: если мама спокойна, а папа переживает, ребёнок видит разницу и учится поглощать разные способы справляться с чувствами.
Однако есть ловушка: если роли не проговорены, ребёнок может манипулировать, пытаясь привлекать все внимание. Надо учиться говорить «сейчас я занят, а через час вернусь». Чёткие границы помогают.
Потенциальные трудности и как их смягчить
- Путаница ролей. Решение: визуальные карты и постоянная коммуникация и открытость.
- Юридическая незащищённость. Решение: иметь при себе заранее подготовленные доверенности и согласования (о чём стоит поговорить с юристом). Это даёт родителям спокойствие — а спокойствие передаётся ребёнку.
- Социальный стыд или секретность. Решение: внутри семьи — честность. Чем меньше «секретов», тем меньше сценариев стыда у ребёнка.
- Излишняя «раскрашенность» жизни — много взрослых, много мнений. Решение: регулярно устраивать семейные «советы», где решают ключевые вопросы все вместе и фиксируют общие решения.
Практические рецепты: вещи, которые можно сделать уже сегодня
- Сделайте «Карту семьи» на холодильник.
- Ведите семейный календарь (офлайн или в общем приложении), дайте доступ всем участникам.
- Создайте «разговорные карточки» — ответы на типичные вопросы сверстников.
- Подготовьте «медицинскую папку»: текст для врачей с описанием, кто может подписывать согласие. (проконсультируйтесь с юристом.)
Периодически проверяйте, как ребёнок рассказывает о семье — и обсуждайте и корректируйте язык вместе.
Про детский взгляд и наше главное правило
Дети не нуждаются в сложных теориях. Им нужна ясность, забота и ритуалы. Чем проще и спокойнее взрослые выстроят свою жизнь вокруг ребёнка, тем быстрее он/она/они примут свою семью как норму. Сородительство даёт шанс — не идеальный, но реальный — подарить ребёнку больше взрослых, больше возможностей и меньше одиночества.
Если мы хотим, чтобы такая модель работала в долгую, начнём с малого: выучим простые фразы, сделаем карту, договоримся о ритуалах и будем честны с ребёнком. Именно эти маленькие детали превращают «четыре взрослых» в настоящую, тёплую семью.
Но есть ещё один слой — не внутренний, а внешний. Это бабушки, дедушки, соседи, учителя, одноклассники. И вот тут детский мир сталкивается с реакциями, которые он не выбирал, но которые влияют на него.
“Когда я впервые рассказала своему дальнему родственнику о своей идее сородительства, он взглянул на меня с удивлением и сказал: «Ты действительно хочешь жить так, будто у тебя не одна семья, а несколько?» Тогда я поняла, насколько глубоко укоренилась в нас идея, что семья — это только мама, папа и дети. Но я видела вокруг себя примеры того, что на самом деле разнообразия гораздо больше — и верила, что в этом и есть будущее.” — М.М., автор
Бабушки и дедушки: от шока к принятию
Восприятие старшего поколения часто начинается с недоумения. Для многих бабушек «семья» жёстко связана с их собственным жизненным опытом, и модель сородительства кажется чем-то временным, «экспериментом».
Что важно помнить:
- Ребёнок улавливает скрытый тон. Даже если бабушка не говорит ничего вслух, её интонация способна передать сомнение или осуждение.
- Лучше проговорить границы. Родителям стоит заранее объяснить старшему поколению, что внутри семьи нет «второстепенных» взрослых.
- Дать им свою семейную роль. Когда бабушке/дедушке дают понятную и полезную функцию (читать сказки, помогать с поделками, забирать со школы), принятие идёт быстрее.
Чем скорее старшие родственники перестанут видеть в сородительстве угрозу, тем меньше ребёнок будет чувствовать, что его «надо защищать от своей же семьи».
Школа: социальный фильтр и тренажёр
Школа — это не только уроки, но и тонкий социальный барометр. Здесь ребёнок сталкивается с любопытством, иногда с недопониманием или стереотипами.
Рабочие стратегии:
- Простые ответы на сложные вопросы. Подготовленный сценарий «У меня несколько взрослых, которые меня любят» снимает напряжение.
- Союзники внутри. Один-двое педагогов, которые понимают семейную модель, могут мягко корректировать реакцию класса и родителей одноклассников.
- Публичная нейтральность. Иногда лучше, чтобы разговоры о семье были в малых группах, а не на всю классную. Ребёнок должен чувствовать контроль и ответственность над тем, что он рассказывает.
Важно понимать: школа — это своего рода «полевые испытания» для модели сородительства. Если дома всё стабильно и честно, ребёнок легче фильтрует внешние реакции.
Сородительство работает в долгую, когда внутренний круг семьи и внешний круг (родственники, педагоги, соседи) не конфликтуют между собой. У ребёнка должна быть единая «карта мира», где нет двух параллельных версий — «как дома» и «как на улице». Чем меньше разрыв между ними, тем увереннее и счастливее он растёт.
Государственные органы: формальности, которые становятся испытанием
Если детский опыт — это про внутреннюю стабильность, а бабушки и школа — про социальное окружение, то государственные органы — это про структуру, в которой живёт вся страна. И именно здесь сородительство в ЛГБТ-контексте встречает, пожалуй, самые жёсткие и холодные рамки.
Для чиновника ребёнок — это набор документов: свидетельство о рождении, медицинская карта, регистрация, прописка, родительские права. И в этой системе до сих пор почти не предусмотрено, что у него может быть несколько равноправных взрослых, еще сложнее — из однополых пар.
Главная сложность — «невидимость» части родителей
Даже если внутри семьи роли распределены чётко, для госоргана законным родителем считается только тот, кто указан в документах. Второй партнёр остаётся «никем» — без права принимать решения в школе, без доступа к медицинской информации, без юридической защиты при экстренных ситуациях.
В сородительстве на четверых это умножается на два:
- у ребёнка может быть только два «официальных» родителя — остальные оказываются вне правового поля;
- в случае конфликта или несчастья эти «неофициальные» взрослые могут быть отстранены от ребёнка, даже если он воспринимает их как самых близких.
Бытовые примеры «системных тупиков»
- Поликлиника: если ребёнок заболел, к врачу его имеет право вести только «официальный» родитель или доверенное лицо с нотариальным документом, оформленным по всем правилам.
- Школа: без внесения в список законных представителей нельзя забрать ребёнка с уроков или поехать с ним на экскурсию.
- Загранпоездка: для пересечения границы требуется согласие обоих официальных родителей — неофициальные не могут даже сопровождать ребёнка одни.
Как семьи решают вопрос
В странах, где ЛГБТ-пары не имеют полного родительского признания, семьи ищут обходные пути:
- оформляют доверенности «про запас»;
- заранее договариваются о едином подходе на случай экстренных ситуаций;
- иногда один партнёр официально вступает в фиктивный брак с биологическим родителем, чтобы получить признание родительского статуса.
Это не идеальные решения — они требуют гибкости, осторожности и иногда компромиссов, которые в “идеальном мире” не понадобились бы.
📘 Государственные структуры редко настроены на то, чтобы «догонять» актуальную реальность семейных форматов. Но от этой медлительности и бюрократии страдают не взрослые, а дети — те, чьё благополучие должно быть для системы приоритетом. В сородительстве это особенно заметно: в жизни ребёнка реально участвуют четверо, а юридически «существуют» только двое. И чем дольше сохраняется этот разрыв, тем чаще семья вынуждена тратить силы не на воспитание, а на борьбу за право быть признанной.
🌱 И всё же, несмотря на эти формальные тупики и сложности, сама идея сородительства остаётся удивительно живой. Потому что, если отвлечься от сегодняшних ограничений и представить, какой могла бы быть семья через пару десятилетий, то именно она способна стать прототипом «горизонтальной» семьи будущего.
Почему «горизонтальная»?
В отличие от привычной вертикали — где сверху родители, а снизу дети, — в горизонтальной семье все участники являются частью одной плоскости заботы и ответственности. Здесь ценится не семейный статус “авторитетности”, не юридическая отметка, а вклад, который каждый делает в общее. Условно говоря, важен не «кто по документам отец и значит тут главный», а «кто встал ночью, когда у ребёнка поднялась температура».
Перераспределение ролей без борьбы за власть в семье
В классической семье часто происходит тихая война за власть: кто главный, кто принимает решения, а кто должен слушать и принимать мнение авторитетов молча. В сородительстве, особенно в ЛГБТ-контексте, эта борьба не так актуальна. Уже сама модель предполагает, что главных — несколько, и это нормально. При желании роли можно перераспределять: тот, кто сегодня больше занят заработком, через пару лет может взять паузу и быть с детьми, а другой взрослый — наоборот, выйти на первый план.
Пространство для разных моделей близости
Горизонтальная семья будущего не обязательно строится на романтической паре как «центре мира». В ней может быть место для дружбы, для союзов, которые не завязаны на влюблённости, но наполнены глубоким доверием. Это снимает огромное количество напряжения: люди могут разойтись как партнёры, но остаться родителями, не разрушая всё.
Детям проще учиться миру
Когда ребёнок с детства живёт в пространстве, где есть несколько равноценных взрослых с разными характерами, стилями общения и взглядами, он растёт более адаптивным. Для него многообразие — не теория из учебника, а повседневный опыт. В будущем это может означать, что такие дети будут легче строить собственные гибкие, устойчивые семьи — возможно, ещё более сложные и интересные, чем те, что мы можем вообразить сегодня.
От семьи — к сообществу
Горизонтальная семья — это ещё и маленький социальный эксперимент: как ужиться, договариваться, поддерживать друг друга без чёткой иерархии. Если он удаётся, возникает новая форма соседства и дружбы, где границы между «моё» и «твоё» становятся мягче. А из таких успешных экспериментов, собственно, и вырастают новые культурные нормы.
«Мы создаём для детей и для себя новый ландшафт отношений»
По сути, сородительство даёт шанс создать модель, в которой любовь и забота распределены шире, чем в привычной паре, а ответственность не падает тяжёлым грузом на двоих. Это может быть тем самым переходным мостиком от семьи «ячейки общества» к семье «сети общества» — живой, гибкой, устойчивой. И если эта идея приживётся, через поколение она уже перестанет казаться чем-то «альтернативным» и станет одной из равноправных форм человеческой близости.
Всё, о чём мы говорим, — не про теорию из книг. Это про людей, которые хотят жить не как «правильно», а как честно для себя. Про семьи, которые создаются не потому, что «так принято», а потому что именно эти взрослые решили делить заботу, радости и бессонные ночи.
Сородительство, в каком бы виде оно ни было — на четверых, на троих или даже в формате «родитель плюс друг семьи» — это вызов привычному образу жизни. Это отказ от стандартной идеи “ячейки общества”, куда нас направляют традиционные представления о «настоящей семье», и попытка построить что-то своё, нестандартное, даже если для этого нет готовых шаблонов.
Да, будут сложности. Да, придётся объяснять своё устройство детям, соседям, школе и государственным органам. Но ведь и обычная семья — это тоже не просто, просто её проблемы уже легализованы культурой. Наши же пока что придётся решать самим, пробуя, ошибаясь и снова пробуя.
И вот в этом — особенная ценность. Мы не просто воспитываем детей. Мы создаём для них и для себя новый ландшафт отношений, где главное — не соответствовать чужому эталону, а быть живыми, любящими и надёжными.
Может быть, через двадцать лет кто-то из этих детей, уже взрослый, скажет:
«У меня было четыре родителя, и это было лучшее, что могло со мной случиться».
И тогда всё, что мы делаем сегодня, перестанет быть смелостью — и станет нормой.
Автор: Мария Максимова,
исследователь вопросов семьи